Ex-CEO Скандинавии говорит!
Медицина — индустрия сплошных парадоксов.
Во-первых, пациент почти всегда боится. Боится так сильно, что может специально не ходить к доктору, чтобы вдруг не узнать что-то страшное про себя.
Во-вторых, пациенту часто неловко. Именно эта неловкость вызывает те самые врачебные стереотипы, которые мы хорошо знаем из сериалов и фильмов, что пациент всегда врет. Он не врет! Он недоговаривает. Не рассказывает про алкоголь, про половую жизнь, про то, что таблетки купил и даже начал пить, а потом бросил. Ему (нам!) так неловко, что проще умолчать.
А в-третьих, есть еще деньги. Пациент хочет заботы и готов платить, но боится чрезмерной заботы, опасаясь, что придется чрезмерно платить. И что врач и клиника слишком захотят заработать.
В общем, это индустрия и парадоксов, и сплошного недоверия!
При этом индустрия — самая человечная из всех отраслей на земле. Я даже скажу, что драматическая. Много страхов, много сомнений, много боли и много чудес, надежд и хорошего. Всего много, и это большое происходит между двумя людьми и за закрытой
дверью.
На тот момент я управляла медицинской сетью в Скандинавии уже два года. У нас было 3 региона, почти все виды помощи — от многопрофильных поликлиник в каждом районе до сверхтехнологичных стационаров и родильных домов. Больше 1000 врачей и сотни тысяч пациентов в год. И у меня ничего не получалось! Видение, какой может быть сеть клиник по-настоящему внимательной медицины, было в моей голове ярким, но совсем не воплощалось в реальность. Будто я и мои презентации живем отдельно, а опыт врачей в кабинете — совсем другая вселенная.
И в полном внутреннем отчаянии я пошла на приемы педиатров. Надела белый халат, просила разрешение у врачей и пациентов (у меня нет медицинского образования, и находиться на приеме по закону мне нельзя), и просто молча наблюдала. Мне хотелось познать тайну закрытых дверей врачебного кабинета.
Я помню, как приходит мама с ребенком к врачу. У мамы есть конкретные пару вопросов, но абсолютно очевидно, что ей надо просто поговорить. Со взрослым человеком. Вопросы просто повод, а так она говорит и говорит, и говорит, и ей хорошо. Ребенок рядом играет в игрушки, доктор слушает, а маме легче. Через час она выходит из приема, будто она отдохнула.
А потом приходит пара с ребенком. И мама выглядит, будто не спит ночами совсем давно, и ей плохо. Папа рядом, и он волнуется. Он перепроверяет каждое слово доктора, спорит, уточняет, записывает, снова спорит. Через полчаса он успокаивается и признается, что им
очень не хватает сна, и они боятся конкретного диагноза у ребенка. Доктор начинает исследовать тему, и разговор совсем меняется.
Приходила мама с дочками. Доктор вспомнила, что дети занимаются балетом и что у них есть любимый пес. Под рассказы про пса они и разделись, и дали себя послушать, согласились на прививки и вприпрыжку побежали в процедурный кабинет. Я сидела и думала — интересно, а без балета и пса как бы сложился контакт? Было бы вприпрыжку или через «не хочу и боюсь»?
Больше всего мне запомнилась юная девушка. Она приходила сама, уже давно и регулярно, после сложной онкологии. Ей надо было проверять конкретные показатели. Глаза ее были взрослее, чем глаза всех взрослых, с кем я работала. С доктором у них был почти бессловесный контакт, но он был, и доверие было.
В ту неделю я дала себе два обещания. Что я никогда не буду говорить, будто врач что-то должен или обязан. А буду строить среду, в которой доктору так удобно и так хорошо, что ему хочется сделать очень удобно и очень хорошо пациентам.
И что мы будем бесконечно вкладывать в обучение докторов коммуникации — в распознавание невидимых знаков от пациента — что именно ему сказать, где промолчать, где выслушать, а где задать вопрос... и как создать то самое доверие за закрытой дверью, что пациенту страшно и неловко, но он открывается.
Книга Натальи Чекуровой посвящена тайне за закрытыми дверями кабинета, и тому, как ее разгадать.
Во-первых, пациент почти всегда боится. Боится так сильно, что может специально не ходить к доктору, чтобы вдруг не узнать что-то страшное про себя.
Во-вторых, пациенту часто неловко. Именно эта неловкость вызывает те самые врачебные стереотипы, которые мы хорошо знаем из сериалов и фильмов, что пациент всегда врет. Он не врет! Он недоговаривает. Не рассказывает про алкоголь, про половую жизнь, про то, что таблетки купил и даже начал пить, а потом бросил. Ему (нам!) так неловко, что проще умолчать.
А в-третьих, есть еще деньги. Пациент хочет заботы и готов платить, но боится чрезмерной заботы, опасаясь, что придется чрезмерно платить. И что врач и клиника слишком захотят заработать.
В общем, это индустрия и парадоксов, и сплошного недоверия!
При этом индустрия — самая человечная из всех отраслей на земле. Я даже скажу, что драматическая. Много страхов, много сомнений, много боли и много чудес, надежд и хорошего. Всего много, и это большое происходит между двумя людьми и за закрытой
дверью.
На тот момент я управляла медицинской сетью в Скандинавии уже два года. У нас было 3 региона, почти все виды помощи — от многопрофильных поликлиник в каждом районе до сверхтехнологичных стационаров и родильных домов. Больше 1000 врачей и сотни тысяч пациентов в год. И у меня ничего не получалось! Видение, какой может быть сеть клиник по-настоящему внимательной медицины, было в моей голове ярким, но совсем не воплощалось в реальность. Будто я и мои презентации живем отдельно, а опыт врачей в кабинете — совсем другая вселенная.
И в полном внутреннем отчаянии я пошла на приемы педиатров. Надела белый халат, просила разрешение у врачей и пациентов (у меня нет медицинского образования, и находиться на приеме по закону мне нельзя), и просто молча наблюдала. Мне хотелось познать тайну закрытых дверей врачебного кабинета.
Я помню, как приходит мама с ребенком к врачу. У мамы есть конкретные пару вопросов, но абсолютно очевидно, что ей надо просто поговорить. Со взрослым человеком. Вопросы просто повод, а так она говорит и говорит, и говорит, и ей хорошо. Ребенок рядом играет в игрушки, доктор слушает, а маме легче. Через час она выходит из приема, будто она отдохнула.
А потом приходит пара с ребенком. И мама выглядит, будто не спит ночами совсем давно, и ей плохо. Папа рядом, и он волнуется. Он перепроверяет каждое слово доктора, спорит, уточняет, записывает, снова спорит. Через полчаса он успокаивается и признается, что им
очень не хватает сна, и они боятся конкретного диагноза у ребенка. Доктор начинает исследовать тему, и разговор совсем меняется.
Приходила мама с дочками. Доктор вспомнила, что дети занимаются балетом и что у них есть любимый пес. Под рассказы про пса они и разделись, и дали себя послушать, согласились на прививки и вприпрыжку побежали в процедурный кабинет. Я сидела и думала — интересно, а без балета и пса как бы сложился контакт? Было бы вприпрыжку или через «не хочу и боюсь»?
Больше всего мне запомнилась юная девушка. Она приходила сама, уже давно и регулярно, после сложной онкологии. Ей надо было проверять конкретные показатели. Глаза ее были взрослее, чем глаза всех взрослых, с кем я работала. С доктором у них был почти бессловесный контакт, но он был, и доверие было.
В ту неделю я дала себе два обещания. Что я никогда не буду говорить, будто врач что-то должен или обязан. А буду строить среду, в которой доктору так удобно и так хорошо, что ему хочется сделать очень удобно и очень хорошо пациентам.
И что мы будем бесконечно вкладывать в обучение докторов коммуникации — в распознавание невидимых знаков от пациента — что именно ему сказать, где промолчать, где выслушать, а где задать вопрос... и как создать то самое доверие за закрытой дверью, что пациенту страшно и неловко, но он открывается.
Книга Натальи Чекуровой посвящена тайне за закрытыми дверями кабинета, и тому, как ее разгадать.
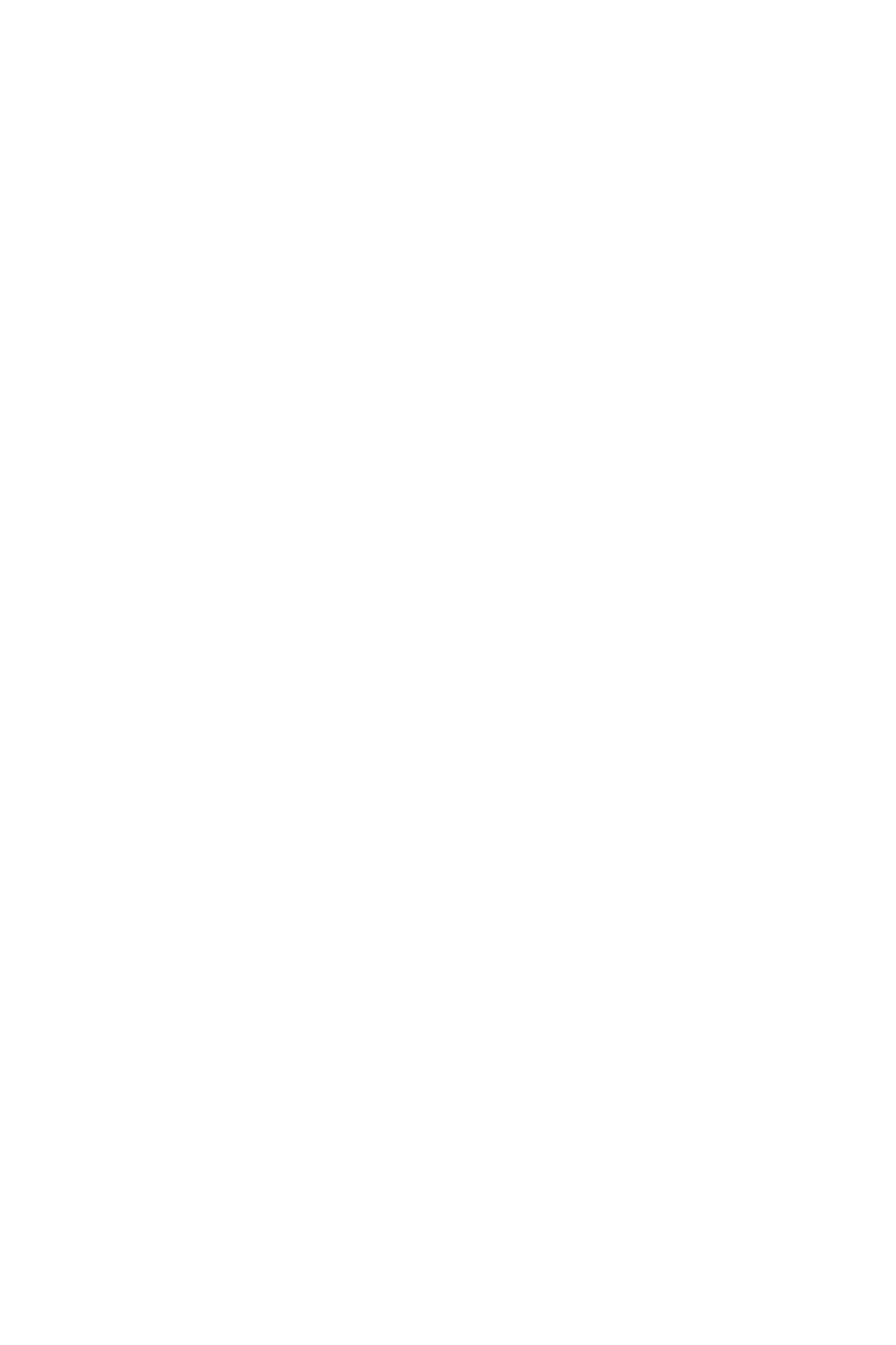
Ольга Соколова
Ex-CEO сети клиник “Скандинавии”
Ex-CEO сети клиник “Скандинавии”
